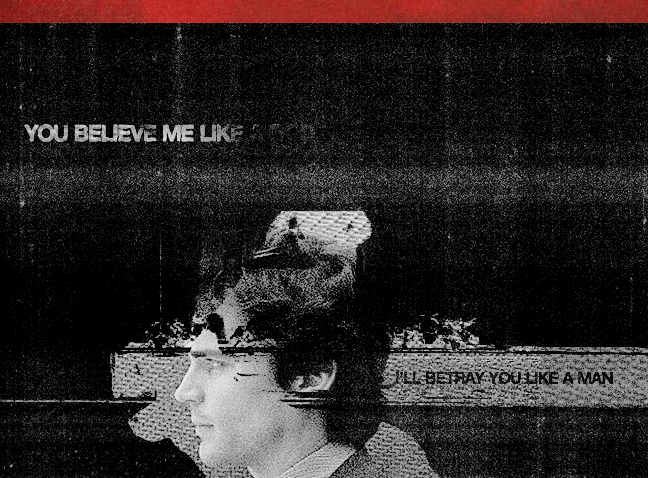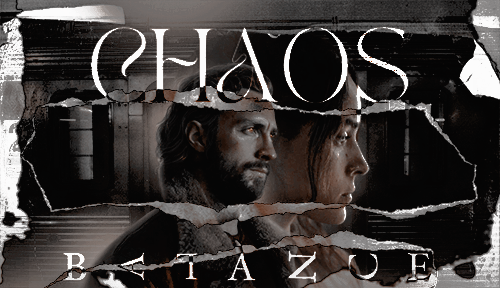трибуты проекта «цитадель».
[indent] The ears were chopped from young men if the pitch cap didn't kill them; they are buried without scalp in the shattered bedrock of our home. You may never know your fortune until the distance has been shown between what is lost forever — and what can still be known.

[float=left]
 [/float]
[/float]
[indent] 42nd hunger games // attic harrow [аттик хэрроу, 25].
XXXVIII. THE LUNATIC.
One must be always drunk. Everything lies in that; it is the only question worth considering.
In order not to feel the horrible burden of time which breaks your shoulders, you must intoxicate yourself
without truce, but with what? With wine, poetry, art? — As you will; but intoxicate yourself.
Все началось с доктора Хэйвена — его седые волосы напомнили Аттику отца, только папа был весь в морщинах и въевшейся грязи, а у доктора кожа почему-то сияла. Его голос был слаще любых микстур, которыми он кормил его с руки, придерживая его за затылок, и когда этот голос говорил, милый, милый Аттик, просто научись ничего не чувствовать, Аттик слушал и внимал.
Он внял бы любому слову доктора Хэйвена. Он был добр к нему. Он не ранил так сильно, как другие. Не оставлял гематом и шрамов. Он отмерял время голосом, раскачивая густой воздух стерильной палаты, рассказывая истории одну за другой, сказки, былины, вымыслы, рассказывая так спокойно и тепло, что Аттик верил каждому звуку. Он вытирал ему щеки. Приносил новые лекарства, после которых было хорошо. Слишком хорошо.
Рядом с доктором Хэйвеном Аттику переставала сниться арена — цирковой купол, увешанный звенящими куклами-клоунами, звери в клетках, истекающие слюной, изнывающие от желания содрать его мясо с костей, — все вдруг исчезало, когда приходил доктор со своими шприцами, мазями, таблетками, суспензиями и порошками. Рядом с доктором Хэйвеном Аттик постепенно забыл отца. Седину его волос и огрубевшие руки, державшие крепко у ребер, поднимающие высоко-высоко в небо. Его тихие песни и крепкое пойло. Его иногда странно туманный взгляд. Аттик забыл и маму, и сестренку, и арену, и Капитолий, и поля Одиннадцатого, забыл солнце, облака, воду, птиц, деревья и кору, забыл лица, имена, руки, взгляды, глаза — забыл все, кроме сладкого-сладкого голоса доктора Хэйвена.
Теперь Аттик ходит во сне. Рисует в воздухе странные рисунки. Напевает под нос нескладные мелодии, которые не подхватили бы сойки-пересмешницы. Падает на колени, когда доктор входит в его палату, и так вдохновенно рассказывает ему что-то бредовое, что-то лихорадочное, горячное, все что угодно, все, что он хочет услышать, лишь бы только доктор принес ему микстуру или таблетку, вколол во взбухшие вены что-то, что потушит голову, и рассказал еще какую-нибудь историю из тех, которым никогда не случиться.
[float=left]
 [/float]
[/float]
[indent] 44th hunger games // nike [нике, 23].
XXXIV. THE BABYDOLL.
Death comes to me again, a girl in a cotton slip. Barefoot, giggling. It's not so terrible, she tells me,
not like you think: all darkness and silence. There are wind chimes and the scent of lemons. Some days it rains.
We sit beneath the staircase built from hair and bone and listen to the voices of the living.
Нике не помнят, как их звали в прошлой жизни. Имена — это якоря, а они предпочитают плавать — легкие, невесомые, сотканные из тишины и фарфора. Санитары называют их своей маленькой куколкой, запираясь с ними в пустых помещениях на полчаса — Нике в них растворяется, как сахар в теплом молоке. Они носят платьица, от которых пахнет нафталином, и их тонкие пальцы всегда идеально сложены на невидимых шарнирах.
Нике считают все: мир, они говорят слишком аморфный, слишком текучий и потому — ужасающий. Чтобы он не развалился на части, его нужно удерживать. Нике знают, что в их палате ровно две тысячи четыреста восемьдесят семь дырок в потолочной плитке. Они шепотом пересчитывают шаги санитаров за дверью — семьдесят три до процедурного кабинета, сто пятнадцать обратно. Они складывают и вычитают пустоты внутри себя. Милая куколка, просто сосчитай до десяти, — и Нике послушно отсчитывают секунды, пока жгуты сжимают их тонкие, как веточки, руки. Сосчитай, сколько раз ты моргнешь, пока лекарство не подействует. И они моргают, старательно, без пропусков, превращая боль в ряд простых чисел.
Нике не мальчик и не девочка; Нике — единица и ноль. Их тело было ошибкой, случайным набором клеток, который требовалось игнорировать. Их научили ничего не чувствовать, но некоторые прикосновения — грубее иглы, сильнее любого препарата. Они входят в них, как посторонние числа в выверенное уравнение, ломая скобки и меняя знаки. Нике никогда не плачут. Они замирают, превращаясь в самую совершенную версию милой куколки — неодушевленную, холодную, податливую. Они мысленно разбирают себя на винтики и шестеренки, на составные части, которые нельзя сломать, потому что они уже не живые.
Они считают. До ста. До тысячи. Пока все не кончится и мир не сложится обратно в стерильную, предсказуемую пустоту.
[float=left]
 [/float]
[/float]
[indent] 47th hunger games // camilla leighton [камилла лейтон, 17].
XXIIV. THE SUNFLOWER.
Trees talk to each other at night. All fish are named either Lorna or Jack. Before your eyeballs fall out
from watching too much TV, they get very loose. Tiny bears live in drain pipes. If you are very very quiet,
you can hear the clouds rub against the sky. The moon and the sun had a fight a long time ago.
Они привезли ее сюда в четырнадцать, и с тех пор что-то в ней медленно выцветало, как фотография, оставленная на солнце. Камилла Лейтон. Имя, звучащее как щебет птиц за толстыми стеклами, как обещание, которое не сбылось.
Он не был похож на садиста; он носил безупречный белый халат, а его руки пахли не кровью, а спиртом и мятным лосьоном. Он не кричал — он спрашивал. Спокойным, ровным голосом. Камилла, покажи мне, где в тебе прячется этот шум, — говорил он, поднося к вискам холодные электроды. Давай найдем его и аккуратно извлечем. Как сердцевинку. Он не ломал ей кости. Он дробил ее воспоминания. Сеанс за сеансом заставлял ее проживать самые теплые моменты — первый поцелуй с парнем с веснушками, побег в открытое море, смех мамы; и в самый пик, когда счастье достигало апогея, он вводил препарат — резкий, парализующий ужас. Мозг учился: радость — это предвестник агонии.
Он методично превращал ее прошлое в минное поле. Теперь ей семнадцать. Она сидит у стерильной стены, которая заменяет ей окно, и ее пальцы бессмысленно шевелятся на коленях, будто перебирают стебли половых цветов. Ее волосы стали блеклыми и безжизненными. Она почти не говорит. Иногда, когда в столовую ставят редкие живые цветы, она подходит и долго-долго смотрит на них с животным, непонимающим ужасом.
[float=left]
 [/float]
[/float]
[indent] 48th hunger games // jude whitmore [джуд уитмор, 18].
XXXIX. THE CAVITY.
When I went out to kill myself, I caught a pack of hoodlums beating up a man. Running to spare his suffering, I forgot
my name, my number, how my day began, how soldiers milled around the garden stone and sang amusing songs;
how all that day their javelins measured crowds; how I alone bargained the proper coins, and slipped away.
Джуда в Цитадель внесли под руки — по дороге с арены он очнулся в ховеркрафте и попытался напасть на пилота и трех охранников. Одного из них он убил.
С тех пор он не переставал гнить. Не телом: его тело — крепость, которую не могут взять ни иглы, ни ток, — но самой своей сутью. Он — незаживающая рана, соль на язве стерильного порядка. Он не плачет по ночам, как другие. Не ищет утешения в шепоте соседей по палатам. Он копит свою боль, как скупец копит золото, и превращает ее в топливо для очень громкого бунта. Он отказывается есть, когда считает нужным. Отворачивается, когда с ним пытаются говорить. Его молчание агрессивное и густое. С ним нельзя договориться, потому что он не признает самих правил игры.
Физически Джуд — чудо. Проклятый дар, который Цитадель решила разобрать на молекулы. Его мышцы помнят каждое движение борьбы, каждое напряжение бегства. Его сердце, побитое и изношенное, все равно качает кровь с упрямством загнанного зверя. Его кости срастаются втрое быстрее нормы, его нервная система выдерживает шок, от которого другой мозг превратился бы в кашу. Джуд — идеальный полигон.
К нему не подпускают докторов со сладкими речами. От них все равно не будет толку. Инженеры в серых халатах, с лицами, как у бухгалтеров, подсчитывающих убытки, вводят ему коктейли из нейротоксинов, которые заставляют каждое нервное окончание кричать в унисон, и хладнокровно записывают, через сколько секунд его рвет, а через сколько наступает паралич. Они тестируют пределы его печени, его почек, заставляя их перерабатывать яды. Они ломают ему кости на специальных растяжках, чтобы изучить феноменальную скорость регенерации.
Они так хотят выяснить, где находится предел Джуда Уитмора. А он, сквозь сжатые зубы, сквозь кровь на губах, которые он кусает, чтобы не кричать, ищет предел их терпения. Он встречает их взгляд. Молча. И в его глазах, помимо боли и ненависти, живет сообщение — вы все еще здесь, значит, я все еще дерусь.
Джуд Уитмор — их ебаный гнилой зуб.
дополнительно: подробнее о проекте цитадель можно почитать вот тут. если вкратце и совсем простым языком, то мы все с вами въебали свои игры, но умудрились каким-то чудом не умереть до нужного момента, и вместо того, чтобы ехать домой мирно спать в деревянных ящиках, мы теперь тусуемся в закрытом исследовательском институте, где на нас тестируют все, что можно и нельзя, пиздят руками, ногами и подручными средствами, и дай бог мы с вами однажды каким-то чудом отсюда выберемся.
представленные выше концепты — это просто набор моих больных фантазий на случай, если вы хотите ко мне в цитадель, но не знаете, откуда начать. здесь все меняется, все переделывается под вас, на все вопросы я отвечаю охотнейшим образом. если концепты не зашли, а в цитадель все еще хочется, можно прилететь ко мне в лс, и я обязательно помогу вписаться ♥







 [/float]
[/float]
 [/float]
[/float]
 [/float]
[/float]
 [/float]
[/float]