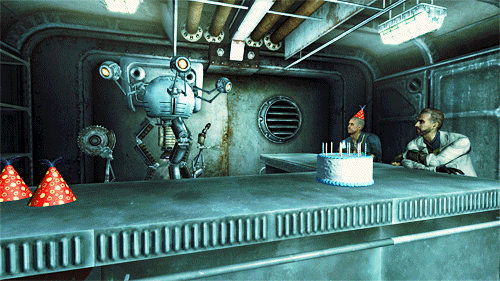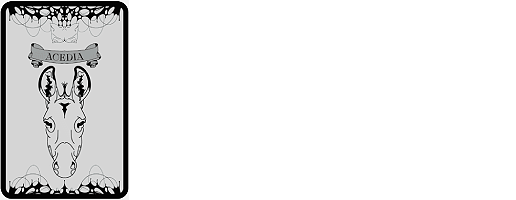Дазай не умер. Опять.
Последняя попытка осталась карминными росчерками на коже, вдоль вен, длинными полосами, заставляющими шипеть от боли, когда он промывал раны под проточной водой, то и дело морщась от неприятных ощущений. Его кровь была красной, такой же как у других людей, убегала в водосток ручьями, ничуть не отличаясь, и все равно казалась отвратительной. Мутной жидкостью, разливающейся по венам, напоминая о гнилости, той, что не увидишь случайно, если не заглянешь глубже в скопления артерий и капилляров, находя среди них источник заразы.
Всегда слишком много, каждый раз чего-то не хватало, чтобы дойти до грани и наконец её перешагнуть, бросив позади опостылевшие вещи.
Стать лучше, да?
Он знал, что не сумеет, но это и не было важно, давно перестало, представая перед ним уродливостью бытия. Пока Дазай старался, разве имело значение что-нибудь еще?
Моток бинта скользнул по свежим порезам, тут же пропитываясь кровью, размытыми пятнами, просвечивающими насквозь, словно пытаясь обнажить все то, что скрывалось внутри. Один оборот, за ним следующий, и вскоре на виду была только слепящая белизна марли, надежно зафиксированной у плеча. Там, под всеми этими слоями находилось то, что он предпочитал не видеть, ненавидя рубцы, следствия бесконечных неудач, запечатленных на полотне его тела.
Тошнотворная картина, от нее во рту появлялся кислый привкус, желание избавиться, содрав вместе с кожей, лишь бы оно не зудело так раздражающе, умоляя продолжать, довести до конца, позабыв о данных обещаниях, и проснуться где-нибудь очень далеко, может быть у моря, без пустоты, обернувшейся безразличием ко всему.
Жалкое зрелище, как ты ни посмотри.
Повернув кран, Дазай несколько долгих минут подарил своему отражению, скривил губы в бессмысленной улыбке, почти видя ответный оскал, насмешку с той стороны над новым днем, очередным провалом. Позади их уже скопилась огромная череда, будто он просто не был в состоянии добиться успеха даже в чем-то настолько элементарном как собственная смерть.
Что бы сказал на это Одасаку?
Улыбка потухла, замерла искаженным подобием, оставшимся кривить рот, когда он отвернулся, чувствуя сожаление. Не из-за попытки умереть, нет, об этом Дазай никогда не жалел, но о том разочаровании, что точно мелькнуло бы среди спокойствия полузабытого понимания. В такие моменты он становился себе еще более противен, чем обычно.
У раковины грязным ворохом валялись старые бинты, в мыльнице лежало недостаточно острое для плоти бритвенное лезвие, делать здесь было нечего, и Дазай ушел. Не оборачиваясь, прикрыл дверь ванной, пряча перебинтованные руки в светлом пальто, прочь из комнаты общежития, направляясь к агентству с опозданием на несколько часов, уже слыша про себя громкие возмущения Куникиды, что непременно раздадутся, стоит ему появиться на месте.
По лестнице на четвертый этаж, возвращаясь к привычной всем легкомысленности, лживым блеском отраженной на самом дне темных зрачков; веселью, вопреки всему не такому уж и наигранному, хрипящему в горле, едва он вошел внутрь, уже собираясь поприветствовать кого-нибудь в почти безлюдном офисе, где было двое, детектив и…
Дазай остановился. Уперся взглядом в широкую спину, спрятанную за бежевой тканью, рыжие волосы, кончиками уходящие под ворот полосатой рубашки, услышал голос, слишком знакомый даже спустя несколько лет, и захлебнулся тьмой. Густой и низменной злостью, едкой ненавистью мажущей в смехе, раздавшемся словно не от него, нарочито громко и дружелюбно, толкая вперед, все ближе к фигуре человека, которого он ни за что не простил бы.
— Рампо-сан, что это, — растянув обращение, Дазай улыбнулся. Пустой и пугающей улыбкой, подступая со словами, полными желчной приветливости, обернутой налетом жестокого радушия, — неужели новый клиент?
«Его зовут Осаму Дазай. Вы можете его найти?»
Ладонь прошлась по чужой спине, будто бы невзначай поднимаясь выше, к затылку, касаясь открытой кожи, что угодно, только бы избавиться от образа друга, позволяя неполноценному сработать. Тогда можно будет выяснить, кому понадобилось использовать единственного, кого Дазай не позволил бы, охраняя память о прошлом столь глубоко, что туда, оскверняя, не пролезли бы даже его собственные демоны.
Секунда, две, десять.
В нос ударил запах крепкого табака и острой еды, пряностей, всегда цепляющихся к Одасаку что бы он ни делал, неповторимая смесь, такой больше ни у кого не было, и это злило сильнее, доводя до откровенности, грубым вопросом вырвавшейся наружу вместе с тем, как они наконец встретились взглядами. Бескрайняя синева с холодом опустевших глаз. Всего мгновение прежде, чем он одернул чуть подрагивающие пальцы, так и не добившись своего.
— Ну и ну, кто же ты?
Неполноценный не сработал, и Дазай остался один на один с призраком, давясь своим же голосом, уже не обращая внимания ни на Рампо, ни на то, что сам трескался по швам, отказываясь верить.
Мертвые не возвращались, а он не прощал, и кто бы ни стоял перед ним, тот, несомненно, поплатился бы, проклянув день, когда решился на обман.


























 .
.